4. «Один из… »
Константин Симонов
Майор привез мальчишку на лафете
Майор привез мальчишку на лафете
Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.
Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.
Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.
Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой…
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой…
Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.
Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.
За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.
За тридевять земель, в горах Урала,
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верю: мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.
Но если нет, когда наступит дата
Ему, как мне, идти в такие дни
Вслед за отцом, по праву, как солдата,
Прощаясь с ним, меня ты помяни.
1941
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.
Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.
Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.
Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой…
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой…
Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.
Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.
За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.
За тридевять земель, в горах Урала,
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верю: мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.
Но если нет, когда наступит дата
Ему, как мне, идти в такие дни
Вслед за отцом, по праву, как солдата,
Прощаясь с ним, меня ты помяни.
1941
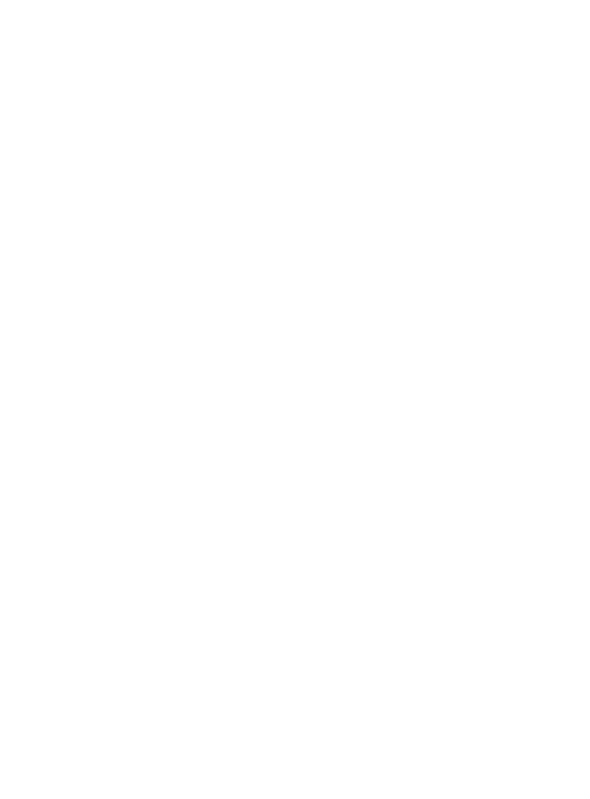
Юный партизан Петр Гурко из отряда "За власть Советов".
Псковско-Новгородская партизанская зона
Псковско-Новгородская партизанская зона
Александр Твардовский
За Вязьмой
За Вязьмой
По старой дороге на запад, за Вязьмой,
В кустах по оборкам смоленских лощин,
Вы видели, сколько там наших машин,
Что осенью той, в отступленье, завязли?
Иная торчит, запрокинувшись косо,
В поломанном, втоптанном в грязь лозняке,
Как будто бы пить подползала к реке –
И не доползла. И долго в тоске,
Во тьме, под огнем буксовали колеса.
И мученик этой дороги – шофер,
Которому все нипочем по профессии,
Лопату свою доставал и топор,
Капот поднимал, проверяя мотор,
Топтался в болотном отчаянном месиве.
Погиб ли он там, по пути на восток,
Покинув трехтонку свою без оглядки,
В зятья ли пристал к подходящей солдатке,
Иль фронт перешел и в свой полк на порог
Явился, представился в полном порядке,
И нынче по этому ездит шоссе
Шофер, как шофер, неприметный, как все,
Угревший свое неизменное место,-
Про то неизвестно…
1943
В кустах по оборкам смоленских лощин,
Вы видели, сколько там наших машин,
Что осенью той, в отступленье, завязли?
Иная торчит, запрокинувшись косо,
В поломанном, втоптанном в грязь лозняке,
Как будто бы пить подползала к реке –
И не доползла. И долго в тоске,
Во тьме, под огнем буксовали колеса.
И мученик этой дороги – шофер,
Которому все нипочем по профессии,
Лопату свою доставал и топор,
Капот поднимал, проверяя мотор,
Топтался в болотном отчаянном месиве.
Погиб ли он там, по пути на восток,
Покинув трехтонку свою без оглядки,
В зятья ли пристал к подходящей солдатке,
Иль фронт перешел и в свой полк на порог
Явился, представился в полном порядке,
И нынче по этому ездит шоссе
Шофер, как шофер, неприметный, как все,
Угревший свое неизменное место,-
Про то неизвестно…
1943

Советские солдаты, попавшие в плен под Вязьмой.
Октябрь 1941 года
Октябрь 1941 года
Константин Симонов
Мальчик
Мальчик
Когда твоя тяжелая машина
Пошла к земле, ломаясь и гремя,
И черный столб взбешенного бензина
Поднялся над кабиною стоймя,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Разбитый и притиснутый к земле,
Конечно, ты не думал о мальчишке,
Который жил в Клину или Орле:
Как ты, не знавший головокруженья,
Как ты, он был упрям, драчлив и смел,
И самое прямое отношенье
К тебе, в тот день погибшему, имел.
Пятнадцать лет он медленно и твердо
Лез в небеса, упрямо сжав штурвал,
И все тобой не взятые рекорды
Он дерзкою рукой завоевал.
Когда его тяжелая машина
Перед посадкой встала на дыбы
И, как жестянка, сплющилась кабина,
Задев за телеграфные столбы,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Придавленный к обугленной траве,
Он тоже не подумал о мальчишке,
Который рос в Чите или в Москве…
Когда уже известно, что в газетах
Назавтра будет черная кайма,
Мне хочется, поднявшись до рассвета,
Врываться в незнакомые дома,
Искать ту неизвестную квартиру,
Где спит, уже витая в облаках,
Мальчишка — рыжий маленький задира,
Весь в ссадинах, веснушках, синяках.
1939
Пошла к земле, ломаясь и гремя,
И черный столб взбешенного бензина
Поднялся над кабиною стоймя,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Разбитый и притиснутый к земле,
Конечно, ты не думал о мальчишке,
Который жил в Клину или Орле:
Как ты, не знавший головокруженья,
Как ты, он был упрям, драчлив и смел,
И самое прямое отношенье
К тебе, в тот день погибшему, имел.
Пятнадцать лет он медленно и твердо
Лез в небеса, упрямо сжав штурвал,
И все тобой не взятые рекорды
Он дерзкою рукой завоевал.
Когда его тяжелая машина
Перед посадкой встала на дыбы
И, как жестянка, сплющилась кабина,
Задев за телеграфные столбы,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Придавленный к обугленной траве,
Он тоже не подумал о мальчишке,
Который рос в Чите или в Москве…
Когда уже известно, что в газетах
Назавтра будет черная кайма,
Мне хочется, поднявшись до рассвета,
Врываться в незнакомые дома,
Искать ту неизвестную квартиру,
Где спит, уже витая в облаках,
Мальчишка — рыжий маленький задира,
Весь в ссадинах, веснушках, синяках.
1939
Илья Эренбург
Привели и застрелили у Днепра
Привели и застрелили у Днепра
Привели и застрелили у Днепра.
Брат был далеко. Не слышала сестра.
А в Сибири, где уж выпал первый снег,
На заре проснулся бледный человек
И сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди!..»
«Киев, Киев! – повторяли провода. –
Вызывает горе, говорит беда».
«Киев, Киев!» – надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки…
1941
Брат был далеко. Не слышала сестра.
А в Сибири, где уж выпал первый снег,
На заре проснулся бледный человек
И сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди!..»
«Киев, Киев! – повторяли провода. –
Вызывает горе, говорит беда».
«Киев, Киев!» – надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки…
1941
Александр Твардовский
Я убит подо Ржевом
Я убит подо Ржевом
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,–
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому – как?
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, –
И за нами оно –
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой! –
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, –
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на воине
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос ваш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, –
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли. чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, –
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое –
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
1946
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,–
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому – как?
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, –
И за нами оно –
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой! –
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, –
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на воине
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос ваш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, –
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли. чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, –
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое –
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
1946
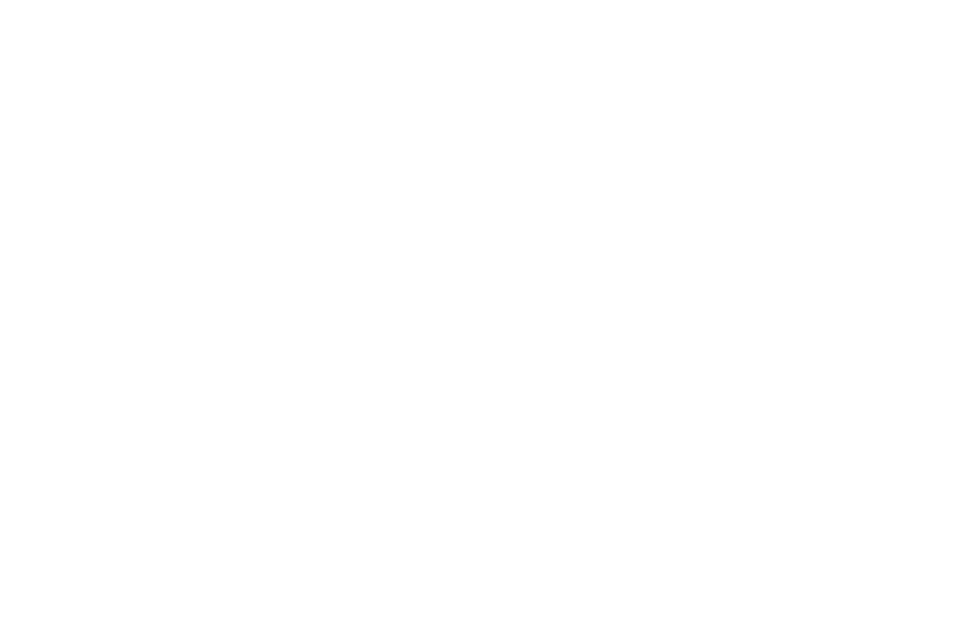
Павший товарищ
Юлия Друнина
Целовались. Плакали...
Целовались. Плакали...
Целовались.
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
Мама!
Мама!
Я дошла до цели…
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
1947
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
Мама!
Мама!
Я дошла до цели…
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
1947
Роберт Рождественский
Сорок трудный год
Сорок трудный год
Сорок трудный год. Омский госпиталь.
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка: «Господи,
До чего же артисты маленькие! »
Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
С балалайками, с мандолинами
И с большими пачками книг.
Что в программе? В программе – чтение,
Пара песен военных, «правильных»…
Мы в палату тяжелораненных
Входим с трепетом и почтением.
Двое здесь. Майор артиллерии
С ампутированной ногой,
В сумасшедшем бою под Ельней
На себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело...
И другой — до бровей забинтован,
Капитан, таранивший «мессера»
Три недели назад над Ростовом.
Мы вошли. Мы стоим в молчании.
Вдруг срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
Объявляет начало концерта.
А за ним, не вполне совершенно,
Но вовсю запевале внимая,
О народной поем, о священной
Так, как мы ее понимаем…
В ней Чапаев сражается заново,
Краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши в атаки,
А фашисты падают замертво.
Здесь чужое железо плавится,
Здесь и смерть отступать должна...
И сказать бы по правде – нравится
Нам такая война...
Мы поем... Только голос летчика
Раздается, а в нем укор:
«Погодите, постойте, хлопчики...
Погодите... Умер майор… »
Балалайка всплакнула горестно,
Торопливо, будто в бреду...
Вот и все о концерте в госпитале
В том далеком военном году.
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка: «Господи,
До чего же артисты маленькие! »
Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
С балалайками, с мандолинами
И с большими пачками книг.
Что в программе? В программе – чтение,
Пара песен военных, «правильных»…
Мы в палату тяжелораненных
Входим с трепетом и почтением.
Двое здесь. Майор артиллерии
С ампутированной ногой,
В сумасшедшем бою под Ельней
На себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело...
И другой — до бровей забинтован,
Капитан, таранивший «мессера»
Три недели назад над Ростовом.
Мы вошли. Мы стоим в молчании.
Вдруг срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
Объявляет начало концерта.
А за ним, не вполне совершенно,
Но вовсю запевале внимая,
О народной поем, о священной
Так, как мы ее понимаем…
В ней Чапаев сражается заново,
Краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши в атаки,
А фашисты падают замертво.
Здесь чужое железо плавится,
Здесь и смерть отступать должна...
И сказать бы по правде – нравится
Нам такая война...
Мы поем... Только голос летчика
Раздается, а в нем укор:
«Погодите, постойте, хлопчики...
Погодите... Умер майор… »
Балалайка всплакнула горестно,
Торопливо, будто в бреду...
Вот и все о концерте в госпитале
В том далеком военном году.